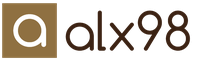Поединок (повесть), сюжет, герои. Поединок (повесть), сюжет, герои Поединок краткое содержание
Кадр из фильма «Шурочка» (1982)
Занятия в шестой роте подходят к концу. Младшие офицеры начинают соревноваться - кто лучше срубит саблей глиняное чучело. Подходит очередь молоденького подпоручика Григория Ромашова.
Он был среднего роста, худощав, и хотя довольно силён для своего сложения, но от большой застенчивости неловок.
Фехтовать Ромашов не умел даже в училище, и сейчас у него ничего не выходит.
Все вечера до полуночи подпоручик Ромашов проводит у Николаевых. Днём он обещает себе не ходить, не надоедать людям, но вечером следующего дня возвращается в этот уютный дом.
Дома Ромашов застаёт письмо от Раисы Александровны Петерсон, с которой они грязно, скучно и уже довольно давно обманывают её мужа. Приторный запах духов Раисы и пошло-игривый тон письма вызывают у Ромашова нестерпимое отвращение.
Через полчаса, стесняясь и досадуя на себя, Ромашов стучится к Николаевым. Владимир Ефимыч Николаев занят. Вот уже два года подряд он проваливает экзамены в академию. Поступать можно только три раза, и его жена Александра Петровна, Шурочка, делает всё, чтобы последний шанс не был упущен. Помогая мужу готовиться, Шурочка уже усвоила всю программу, не даётся ей только баллистика, Володя же продвигается очень медленно. Шурочка хочет, чтобы муж сдал экзамены и увёз её из этой глуши.
Неужели я уж так неинтересна как человек и некрасива как женщина, чтобы мне всю жизнь киснуть в этой трущобе, в этом гадком местечке, которого нет ни на одной географической карте!
С Ромочкой (так она зовёт Ромашова) Шурочка обсуждает газетную статью о недавно разрешённых в армии поединках. Она считает их необходимыми, иначе не выведутся в офицерской среде шулера или пьяницы вроде Назанского. Ромашов не хочет зачислять в эту компанию Назанского, считающего, что способность любить даётся, как и талант, не каждому. Когда-то Шурочка отвергла этого человека, и муж её ненавидит поручика. На этот раз Ромашов сидит у Николаевых, пока не приходит пора спать.
Дома его ждёт ещё одна записка от Петерсон, в которой она угрожает Ромашову жестокой местью за его пренебрежение ею. Женщина знает, где Ромашов бывает каждый день и кем он увлечён.
На ближайшем полковом балу Ромашов говорит любовнице, что всё кончено. Петерсониха клянётся отомстить. Вскоре Николаев начинает получать анонимки с намёками на особые отношения подпоручика с его женой. Ромашов не уверен, что анонимки пишет Раиса. Недоброжелателей у Григория хватает - он не позволяет драться офицерам, запрещает бить солдат.
Недовольно Ромашовым и начальство. С деньгами у подпоручика становится всё хуже, буфетчик уже не отпускает в долг даже сигарет. На душе у Ромашова скверно из-за ощущения скуки, бессмысленности службы и одиночества.
В конце апреля Ромашов получает от Александры Петровны записку с напоминанием об их общих именинах. Заняв денег у подполковника Рафальского, Ромашов покупает духи и отправляется к Николаевым. На шумном пикнике Ромашов сидит рядом с Шурочкой и испытывает странное состояние, похожее на сон. Его рука иногда касается Шурочкиной руки, но друг на друга они не смотрят.
Он видел, что в ней струится, трепещет и просится наружу какое-то большое, новое, лихорадочное чувство.
После застолья Ромашов бредёт в рощу. Шурочка идёт следом и говорит, что сегодня в него влюблена, а накануне видела его во сне. Ромашов начинает говорить о любви. Она признаётся, что её волнует его близость, у них общие мысли, желания, но она должна отказаться от него. Шурочка не хочет, чтобы их хватились, и идёт обратно. По дороге она просит Ромашова не бывать больше у них: мужа осаждают анонимками.
В середине мая корпусный командир объезжает выстроенные на плацу роты, смотрит их выучку и остаётся недоволен. Только пятая рота, где солдат не мучают шагистикой и не крадут из общего котла, заслуживает похвалу.
Во время церемониального марша Ромашов чувствует себя предметом общего восхищения. Замечтавшись, он сбивает строй.
Вся его полурота вместо двух прямых стройных линий представляла из себя безобразную, изломанную по всем направлениям, стеснившуюся, как овечье стадо, толпу.
Вместо восторга на его долю выпадает публичный позор. К этому прибавляется объяснение с Николаевым, требующим прекратить поток анонимок и не бывать у них в доме. Ромашов признаётся, что знает автора анонимок и обещает сохранить репутацию Шурочки.
Перебирая в памяти случившееся, Ромашов незаметно подходит к железнодорожному полотну и в темноте видит солдата, над которым в роте постоянно издеваются. Он спрашивает солдата, хотел бы тот убить себя, и тот, захлёбываясь рыданиями, рассказывает, что его бьют, смеются, взводный вымогает деньги, и учение ему не под силу: с детства мается грыжей.
Теперь собственные неприятности кажутся Ромашову пустячными. Он понимает: безликие роты и полки состоят из таких вот солдат, болеющих своим горем и имеющих свою судьбу.
С этой ночи Ромашов меняется - часто уединяется и избегает общества полковых офицеров.
Он точно созрел, сделался старше и серьёзнее за последние дни и сам замечал это по тому грустному и ровному спокойствию, с которым он теперь относился к людям и явлениям.
Вынужденное отдаление от офицерского общества позволяет Ромашову сосредоточиться на своих мыслях. Он всё яснее видит, что существует только три достойных призвания: наука, искусство и свободный физический труд.
В конце мая в роте Осадчего вешается солдат. После этого происшествия начинается беспробудное пьянство. В собрании Ромашов застаёт Николаева. Между ними происходит ссора. Николаев замахивается на Ромашова, а тот выплёскивает ему в лицо остатки пива.
Назначается заседание офицерского суда чести. Николаев просит Ромашова не упоминать о его жене и анонимных письмах. Суд определяет, что ссора не может быть окончена примирением.
Большую часть дня перед поединком Ромашов проводит у Назанского, который убеждает его не стреляться. Жизнь - явление удивительное и неповторимое. Неужели он так привержен военному сословию, неужели верит в высший будто бы смысл армейского порядка так, что готов поставить на карту само своё существование?
Вечером у себя дома Ромашов застаёт Шурочку. Она говорит, что потратила годы, чтобы устроить карьеру мужа. Если Ромочка откажется ради любви к ней от поединка, то всё равно в этом будет что-то сомнительное и Володю наверняка не допустят до экзамена. Они должны стреляться, но ни один из них не должен быть ранен. Муж знает и согласен. Она обнимает его за шею и прижимается горячими губами к его рту.
И вот оба они, и вся комната, и весь мир сразу наполнились каким-то нестерпимо блаженным, знойным бредом.
Некоторое время спустя Шурочка уходит навсегда.
Подробности дуэли между поручиком Николаевым и подпоручиком Ромашовым описываются в рапорте полковнику. Когда по команде противники пошли друг другу навстречу, поручик Николаев произведённым выстрелом ранил подпоручика в правую верхнюю часть живота, и тот через семь минут скончался от внутреннего кровоизлияния. К рапорту прилагаются показания младшего врача.
Александр Иванович Куприн
«Поединок»
Вернувшись с плаца, подпоручик Ромашов подумал: «Сегодня не пойду: нельзя каждый день надоедать людям». Ежедневно он просиживал у Николаевых до полуночи, но вечером следующего дня вновь шёл в этот уютный дом.
«Тебе от барыни письма пришла», — доложил Гайнан, черемис, искренне привязанный к Ромашову. Письмо было от Раисы Александровны Петерсон, с которой они грязно и скучно (и уже довольно давно) обманывали её мужа. Приторный запах её духов и пошло-игривый тон письма вызвал нестерпимое отвращение. Через полчаса, стесняясь и досадуя на себя, он постучал к Николаевым. Владимир Ефимыч был занят. Вот уже два года подряд он проваливал экзамены в академию, и Александра Петровна, Шурочка, делала все, чтобы последний шанс (поступать дозволялось только до трёх раз) не был упущен. Помогая мужу готовиться, Шурочка усвоила уже всю программу (не давалась только баллистика), Володя же продвигался очень медленно.
С Ромочкой (так она звала Ромашова) Шурочка принялась обсуждать газетную статью о недавно разрешённых в армии поединках. Она видит в них суровую для российских условий необходимость. Иначе не выведутся в офицерской среде шулера вроде Арчаковского или пьяницы вроде Назанского. Ромашов не был согласен зачислять в эту компанию Назанского, говорившего о том, что способность любить даётся, как и талант, не каждому. Когда-то этого человека отвергла Шурочка, и муж её ненавидел поручика.
На этот раз Ромашов пробыл подле Шурочки, пока не заговорили, что пора спать.
На ближайшем же полковом балу Ромашов набрался храбрости сказать любовнице, что все кончено. Петерсониха поклялась отомстить. И вскоре Николаев стал получать анонимки с намёками на особые отношения подпоручика с его женой. Впрочем, недоброжелателей хватало и помимо неё. Ромашов не позволял драться унтерам и решительно возражал «дантистам» из числа офицеров, а капитану Сливе пообещал, что подаст на него рапорт, если тот позволит бить солдат.
Недовольно было Ромашовым и начальство. Кроме того, становилось все хуже с деньгами, и уже буфетчик не отпускал в долг даже сигарет. На душе было скверно из-за ощущения скуки, бессмысленности службы и одиночества.
В конце апреля Ромашов получил записку от Александры Петровны. Она напоминала об их общем дне именин (царица Александра и её верный рыцарь Георгий). Заняв денег у подполковника Рафальского, Ромашов купил духи и в пять часов был уже у Николаевых. Пикник получился шумный. Ромашов сидел рядом с Шурочкой, почти не слушал разглагольствования Осадчего, тосты и плоские шутки офицеров, испытывая странное состояние, похожее на сон. Его рука иногда касалась Шурочкиной руки, но ни он, ни она не глядели друг на друга. Николаев, похоже, был недоволен. После застолья Ромашов побрёл в рощу. Сзади послышались шаги. Это шла Шурочка. Они сели на траву. «Я в вас влюблена сегодня», — призналась она. Ромочка привиделся ей во сне, и ей ужасно захотелось видеть его. Он стал целовать её платье: «Саша… Я люблю вас…» Она призналась, что её волнует его близость, но зачем он такой жалкий. У них общие мысли, желания, но она должна отказаться от него. Шурочка встала: пойдёмте, нас хватятся. По дороге она вдруг попросила его не бывать больше у них: мужа осаждают анонимками.
В середине мая состоялся смотр. Корпусный командир объехал выстроенные на плацу роты, посмотрел, как они маршируют, как выполняют ружейные приёмы и перестраиваются для отражения неожиданных кавалерийских атак, — и остался недоволен. Только пятая рота капитана Стельковского, где не мучили шагистикой и не крали из общего котла, заслужила похвалу.
Самое ужасное произошло во время церемониального марша. Ещё в начале смотра Ромашова будто подхватила какая-то радостная волна, он словно бы ощутил себя частицей некой грозной силы. И теперь, идя впереди своей полуроты, он чувствовал себя предметом общего восхищения. Крики сзади заставили его обернуться и побледнеть. Строй смешался — и именно из-за того, что он, подпоручик Ромашов, вознесясь в мечтах к поднебесью, все это время смещался от центра рядов к правому флангу. Вместо восторга на его долю пришёлся публичный позор. К этому прибавилось объяснение с Николаевым, потребовавшим сделать все, чтобы прекратить поток анонимок, и ещё — не бывать у них в доме.
Перебирая в памяти случившееся, Ромашов незаметно дошагал до железнодорожного полотна и в темноте разглядел солдата Хлебникова, предмет издевательств и насмешек в роте. «Ты хотел убить себя?» — спросил он Хлебникова, и солдат, захлёбываясь рыданиями, рассказал, что его бьют, смеются, взводный вымогает деньги, а где их взять. И учение ему не под силу: с детства мается грыжей.
Ромашову вдруг своё горе показалось таким пустячным, что он обнял Хлебникова и заговорил о необходимости терпеть. С этой поры он понял: безликие роты и полки состоят из таких вот болеющих своим горем и имеющих свою судьбу Хлебниковых.
Вынужденное отдаление от офицерского общества позволило сосредоточиться на своих мыслях и найти радость в самом процессе рождения мысли. Ромашов все яснее видел, что существует только три достойных призвания: наука, искусство и свободный физический труд.
В конце мая в роте Осадчего повесился солдат. После этого происшествия началось беспробудное пьянство. Сначала пили в собрании, потом двинулись к Шлейферше. Здесь-то и вспыхнул скандал. Бек-Агамалов бросился с шашкой на присутствующих («Все вон отсюда!»), а затем гнев его обратился на одну из барышень, обозвавшую его дураком. Ромашов перехватил кисть его руки: «Бек, ты не ударишь женщину, тебе всю жизнь будет стыдно».
Гульба в полку продолжалась. В собрании Ромашов застал Осадчего и Николаева. Последний сделал вид, что не заметил его. Вокруг пели. Когда наконец воцарилась тишина, Осадчий вдруг затянул панихиду по самоубийце, перемежая её грязными ругательствами. Ромашова охватило бешенство: «Не позволю! Молчите!» В ответ почему-то уже Николаев с исковерканным злобой лицом кричал ему: «Сами позорите полк! Вы и разные Назанские!» «А при чем же здесь Назанский?
Или у вас есть причины быть им недовольным?» Николаев замахнулся, но Ромашов успел выплеснуть ему в лицо остатки пива.
Накануне заседания офицерского суда чести Николаев попросил противника не упоминать имени его жены и анонимных писем. Как и следовало ожидать, суд определил, что ссора не может быть окончена примирением.
Ромашов провёл большую часть дня перед поединком у Назанского, который убеждал его не стреляться. Жизнь — явление удивительное и неповторимое. Неужели он так привержен военному сословию, неужели верит в высший будто бы смысл армейского порядка так, что готов поставить на карту само своё существование?
Вечером у себя дома Ромашов застал Шурочку. Она стала говорить, что потратила годы, чтобы устроить карьеру мужа. Если Ромочка откажется ради любви к ней от поединка, то все равно в этом будет что-то сомнительное и Володю почти наверное не допустят до экзамена. Они непременно должны стреляться, но ни один из них не должен быть ранен. Муж знает и согласен. Прощаясь, она закинула руки ему за шею: «Мы не увидимся больше. Так не будем ничего бояться… Один раз… возьмём наше счастье…» — и прильнула горячими губами к его рту.
В официальном рапорте полковому командиру штабс-капитан Диц сообщал подробности дуэли между поручиком Николаевым и подпоручиком Ромашовым. Когда по команде противники пошли друг другу навстречу, поручик Николаев произведённым выстрелом ранил подпоручика в правую верхнюю часть живота, и тот через семь минут скончался от внутреннего кровоизлияния. К рапорту прилагались показания младшего врача г. Знойко.
Подпоручик Ромашов решил к Николаевым сегодня не идти. Денщик принес письма «от барыни». С Раисой Петерсон они давно грязно и скучно обманывают её мужа. Пошлый тон письма, приторный запах духов вызывали отвращение. И Ромашов пошел к Николаевым. Владимир готовился к экзаменам в академию, и Шурочка ему помогала. Она уже усвоила всю программу, а муж не справлялся.
Они обсудили новость о разрешении в армии поединков. Шурочка видит необходимость в них, иначе будут шулера и пьяницы.
На полковом балу Ромашов сказал любовнице, что роман окончен. Раиса поклялась отомстить. Николаеву стали приходить анонимки с намёками на Ромашова и Шурочку. Врагов хватало: поручик запрещал драться унтерам и осуждал зуботычины офицеров. Он грозил капитану Сливе рапортом, если тот позволит бить солдат.
Начальство недовольно Ромашовым, все хуже с деньгами. Скверно от одиночества, скуки, бессмысленности службы.
В день общих именин Ромашов, заняв денег, купил духи, и пришел к Николаевым. Пикник был шумный. Ромашов с Шурочкой сидел рядом. Его рука касалась Шурочкиной руки. Потом Ромашов побрёл в рощу. За ним шла Шурочка. Попросила не приходить больше: мужу пишут анонимки. У них желания общие, но она обязана отказаться.
Во время смотра на марше произошло ужасное: идя впереди своей полуроты и испытывая радость, Ромашов сбил строй. На смену восторгу пришёл публичный позор. Прибавилось еще и объяснение с Николаевым: он требовал пресечь поток анонимок, не бывать у них.
Ромашов, задумавшись, дошел до железной дороги, разглядел солдата Хлебникова. Рыдая, тот говорил, как смеются над ним, бьют, как взводный требует денег, как ему с грыжей трудны учения. Своё горе показалось Ромашову пустячным.
Однажды в собрании Ромашов застал Осадчего и Николаева. Осадчий затянул панихиду, перемежая ее ругательствами. Ромашова в бешенстве кричал: молчать! Николаев замахнулся, Ромашов выплеснул пиво ему в лицо.
Офицерский суд чести постановил: поединок необходим.
Вечером пришла Шурочка. Говорила о потраченных на карьеру мужа годах. Если Ромашов откажется от поединка - пятно будет и на чести мужа. Его не примут в академию. Она якобы говорила с мужем – никто не должен быть даже ранен. Она вдруг припала к нему: один раз возьмём наше счастье…
Официальный рапорт о поединке гласил: Николаев ранил Ромашова в живот, через семь минут тот скончался. Прилагались и показания младшего врача.
Сочинения
Автор и его герои в повести А. И. Куприна "Поединок" Идейно-художественное своеобразие повести А. Куприна «Поединок» Испытание любовью (по повести А. И. Куприна «Поединок») КРИТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ АРМЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА В ПОВЕСТИ А. И. КУПРИНА «ПОЕДИНОК» Мир человеческих чувств в прозе начала xx века Нравственные и социальные проблемы в повести А. Куприна «Поединок». Нравственные и социальные проблемы повести Куприна «Поединок» Нравственные искания героев Куприна на примере героев повести «Поединок» Повесть А.И. Куприна «Поединок» как протест против обезличивания и душевной пустоты Поединок в «Поединке» (по одноименной повести А.И.Куприна) Поединок насилия и гуманизма Развенчание романтики военной службы (по повести «Поединок») Россия в произведениях А. И. Куприна (по повести «Поединок») Сила и слабость натуры подпоручика Ромашова (по повести А. И. Куприна «Поединок») Сила любви (по повести А. И. Куприна «Поединок») Смысл названия и проблематика повести А. И. Куприна «Поединок» Смысл названия повести А. И. Куприна «Поединок» Сословная мораль офицерства по повести Куприна «Поединок» Три гордых призвания человека по повести А. И. Куприна «Поединок»Вечерние занятия в шестой роте приходили к концу, и младшие офицеры все чаще и нетерпеливее посматривали на часы. Изучался практически устав гарнизонной службы. По всему плацу солдаты стояли вразброс: около тополей, окаймлявших шоссе, около гимнастических машин, возле дверей ротной школы, у прицельных станков. Все это были воображаемые посты, как, например, пост у порохового погреба, у знамени, в караульном доме, у денежного ящика. Между ними ходили разводящие и ставили часовых; производилась смена караулов; унтер-офицеры проверяли посты и испытывали познания своих солдат, стараясь то хитростью выманить у часового его винтовку, то заставить его сойти с места, то всучить ему на сохранение какую-нибудь вещь, большею частью собственную фуражку. Старослуживые, тверже знавшие эту игрушечную казуистику, отвечали в таких случаях преувеличенно суровым тоном: «Отходи! Не имею полного права никому отдавать ружье, кроме как получу приказание от самого государя императора». Но молодые путались. Они еще не умели отделить шутки, примера от настоящих требований службы и впадали то в одну, то в другую крайность.
– Хлебников! Дьявол косорукий! – кричал маленький, круглый и шустрый ефрейтор Шаповаленко, и в голосе его слышалось начальственное страдание. – Я ж тебе учил-учил, дурня! Ты же чье сейчас приказанье сполнил? Арестованного? А, чтоб тебя!.. Отвечай, для чего ты поставлен на пост!
В третьем взводе произошло серьезное замешательство. Молодой солдат Мухамеджинов, татарин, едва понимавший и говоривший по-русски, окончательно был сбит с толку подвохами своего начальства – и настоящего и воображаемого. Он вдруг рассвирепел, взял ружье на руку и на все убеждения и приказания отвечал одним решительным словом:
– З-заколу!
– Да постой... да дурак ты... – уговаривал его унтер-офицер Бобылев. – Ведь я кто? Я же твой караульный начальник, стало быть...
– Заколу! – кричал татарин испуганно и злобно и с глазами, налившимися кровью, нервно совал штыком во всякого, кто к нему приближался. Вокруг него собралась кучка солдат, обрадовавшихся смешному приключению и минутному роздыху в надоевшем ученье.
Ротный командир, капитан Слива, пошел разбирать дело. Пока он плелся вялой походкой, сгорбившись и волоча ноги, на другой конец плаца, младшие офицеры сошлись вместе поболтать и покурить. Их было трое: поручик Веткин – лысый, усатый человек лет тридцати трех, весельчак, говорун, певун и пьяница, подпоручик Ромашов, служивший всего второй год в полку, и подпрапорщик Лбов, живой стройный мальчишка с лукаво-ласково-глупыми глазами и с вечной улыбкой на толстых наивных губах, – весь точно начиненный старыми офицерскими анекдотами.
– Свинство, – сказал Веткин, взглянув на свои мельхиоровые часы и сердито щелкнув крышкой. – Какого черта он держит до сих пор роту? Эфиоп!
– А вы бы ему это объяснили, Павел Павлыч, – посоветовал с хитрым лицом Лбов.
– Черта с два. Подите, объясняйте сами. Главное – что? Главное – ведь это все напрасно. Всегда они перед смотрами горячку порют. И всегда переборщат. Задергают солдата, замучат, затуркают, а на смотру он будет стоять, как пень. Знаете известный случай, как два ротных командира поспорили, чей солдат больше съест хлеба? Выбрали они оба жесточайших обжор. Пари было большое – что-то около ста рублей. Вот один солдат съел семь фунтов и отвалился, больше не может. Ротный сейчас на фельдфебеля: «Ты что же, такой, разэтакий, подвел меня?» А фельдфебель только лазами лупает: «Так что не могу знать, вашескородие, что с ним случилось. Утром делали репетицию – восемь фунтов стрескал в один присест...» Так вот и наши... Репетят без толку, а на смотру сядут в калошу.
– Вчера... – Лбов вдруг прыснул от смеха. – Вчера, уж во всех ротах кончили занятия, я иду на квартиру, часов уже восемь, пожалуй, темно совсем. Смотрю, в одиннадцатой роте сигналы учат. Хором. «На-ве-ди, до гру-ди, по-па-ди!» Я спрашиваю поручика Андрусевича: «Почему это у вас до сих пор идет такая музыка?» А он говорит: «Это мы, вроде собак, на луну воем».
– Все надоело, Кука! – сказал Веткин и зевнул. – Постойте-ка, кто это едет верхом? Кажется, Бек?
– Да. Бек-Агамалов, – решил зоркий Лбов. – Как красиво сидит.
– Очень красиво, – согласился Ромашов. – По-моему, он лучше всякого кавалериста ездит. О-о-о! Заплясала. Кокетничает Бек.
По шоссе медленно ехал верхом офицер в белых перчатках и в адъютантском мундире. Под ним была высокая длинная лошадь золотистой масти с коротким, по-английски, хвостом. Она горячилась, нетерпеливо мотала крутой, собранной мундштуком шеей и часто перебирала тонкими ногами.
– Павел Павлыч, это правда, что он природный черкес? – спросил Ромашов у Веткина.
– Я думаю, правда. Иногда действительно армяшки выдают себя за черкесов и за лезгин, но Бек вообще, кажется, не врет. Да вы посмотрите, каков он на лошади!
– Подожди, я ему крикну, – сказал Лбов.
Он приложил руки ко рту и закричал сдавленным голосом, так, чтобы не слышал ротный командир:
– Поручик Агамалов! Бек!
Офицер, ехавший верхом, натянул поводья, остановился на секунду и обернулся вправо. Потом, повернув лошадь в эту сторону и слегка согнувшись в седле, он заставил ее упругим движением перепрыгнуть через канаву и сдержанным галопом поскакал к офицерам.
Он был меньше среднего роста, сухой, жилистый, очень сильный. Лицо его, с покатым назад лбом, тонким горбатым носом и решительными, крепкими губами, было мужественно и красиво и еще до сих пор не утратило характерной восточной бледности – одновременно смуглой и матовой.
– Здравствуй, Бек, – сказал Веткин. – Ты перед кем там выфинчивал? Дэвыцы?
Бек-Агамалов пожимал руки офицерам, низко и небрежно склоняясь с седла. Он улыбнулся, и казалось, что его белые стиснутые зубы бросили отраженный свет на весь низ его лица и на маленькие черные, холеные усы...
– Ходили там две хорошенькие жидовочки. Да мне что? Я нуль внимания.
– Знаем мы, как вы плохо в шашки играете! – мотнул головой Веткин.
– Послушайте, господа, – заговорил Лбов и опять заранее засмеялся. – Вы знаете, что сказал генерал Дохтуров о пехотных адъютантах? Это к тебе, Бек, относится. Что они самые отчаянные наездники во всем мире...
– Не ври, фендрик! – сказал Бек-Агамалов.
Он толкнул лошадь шенкелями и сделал вид, что хочет наехать на подпрапорщика.
– Ей-богу же! У всех у них, говорит, не лошади, а какие-то гитары, шкбпы – с запалом, хромые, кривоглазые, опоенные. А дашь ему приказание – знай себе жарит, куда попало, во весь карьер. Забор – так забор, овраг – так овраг. Через кусты валяет. Поводья упустил, стремена растерял, шапка к черту! Лихие ездоки!
– Что слышно нового, Бек? – спросил Веткин.
– Что нового? Ничего нового. Сейчас, вот только что, застал полковой командир в собрании подполковника Леха. Разорался на него так, что на соборной площади было слышно. А Лех пьян, как змий, не может папу-маму выговорить. Стоит на месте и качается, руки за спину заложил. А Шульгович как рявкнет на него: «Когда разговариваете с полковым командиром, извольте руки на заднице не держать!» И прислуга здесь же была.
– Крепко завинчено! – сказал Веткин с усмешкой – не то иронической, не то поощрительной. – В четвертой роте он вчера, говорят, кричал: «Что вы мне устав в нос тычете? Я – для вас устав, и никаких больше разговоров! Я здесь царь и бог!»
Лбов вдруг опять засмеялся своим мыслям.
– А вот еще, господа, был случай с адъютантом в N-ском полку...
– Заткнитесь, Лбов, – серьезно заметил ему Веткин. – Эко вас прорвало сегодня.
– Есть и еще новость, – продолжал Бек-Агамалов. Он снова повернул лошадь передом ко Лбову и, шутя, стал наезжать на него. Лошадь мотала головой и фыркала, разбрасывая вокруг себя пену. – Есть и еще новость. Командир во всех ротах требует от офицеров рубку чучел. В девятой роте такого холоду нагнал, что ужас. Епифанова закатал под арест за то, что шашка оказалась не отточена... Чего ты трусишь, фендрик! – крикнул вдруг Бек-Агамалов на подпрапорщика. – Привыкай. Сам ведь будешь когда-нибудь адъютантом. Будешь сидеть на лошади, как жареный воробей на блюде.
Вечерние занятия в шестой роте подходят к концу, младшие офицеры все чаще и нетерпеливее посматривают на часы. Тема на сей раз - устав гарнизонной службы на практике. Около тополей, росших вдоль шоссе, у гимнастических машин, возле дверей ротной школы - повсюду стояли вразброд солдаты, изображая собой посты у порохового погреба, у знамени и т. п. Между ними ходили разводящие и ставили часовых; сменялись караулы; офицеры проверяли посты и выучку своих солдат: они старались то хитростью выманить у часового винтовку, то заставить его сойти с места, то всучить ему на хранение какую-нибудь вещь, чаще всего собственную фуражку. Молодые солдаты путаются: ведь к ним подходят их же офицеры! Подвохи начальства окончательно вывели из себя молодого татарина Мухамеджинова в третьем взводе, очень плохо говорящего по-русски. Он вдруг рассвирепел и на все приказания отвечает одним словом: “3-заколу!” У него явно нервный срыв. Ротный командир, капитан Слива, идет разбираться. В его отсутствие младшие офицеры собираются кучкой, болтая и покуривая. Их трое: поручик Веткин, лысый, усатый человек лет тридцати трех, весельчак и пьяница, подпоручик Ромашов - он в полку всего второй год - и подпрапорщик Лбов, живой стройный мальчишка с лукаво-ласково-глупыми глазами, буквально начиненный старыми офицерскими анекдотами. Все трое считают, что перед смотром не стоило бы так выматывать солдат. К офицерам подъехал на лошади золотистой масти поручик Бек-Агамалов. Он сообщает новость: во всех ротах будет рубка чучел шашками. Веткин показывает ему на стоящее посреди плаца подобие человеческой фигуры, только без рук, без ног. Офицеры считают, что эта рубка вовсе ни к чему при существующем огнестрельном оружии. Бек не согласен. Разговор заходит о стычках офицеров со штатскими, которых они презрительно называют “шпаки”. Ромашова возмущает эта бравада. Лбову очень хочется попробовать разрубить чучело. Но получается только у Бек-Агамалова. Гордый, он рассказывает, как у них на Кавказе учат рубке. На плац въезжает коляска командира полка Шульговича, Он крайне недоволен учениями и вымещает свою злость на молодом солдате Шарафутдинове, не понимающем по-русски, что и старается объяснить ему, пытаясь выручить татарина, Ромашов. Шульгин отправляет последнего на четверо суток под домашний арест. Достается и командиру Ромашова капитану Сливе, который получает строгий выговор.
Ромашов смотрит, как Слива, “весь сгорбившись, поплелся домой... и вдруг почувствовал, что в его сердце, сквозь горечь недавней обиды и публичного позора, шевелится сожаление к этому одинокому, огрубевшему, никем не любимому человеку, у которого во всем мире остались только две привязанности: строевая красота своей роты и тихое, уединенное пьянство по вечерам...”.
Ромашов остается один. Уже не в первый раз его охватывает чувство полного одиночества и затерянности среди чужих, недоброжелательных или равнодушных людей. Пойти на вокзал? По вечерам там останавливался курьерский поезд, “выходили красивые, нарядные и выхоленные дамы в удивительных шляпах... господа прекрасно одетые, беззаботно самоуверенные... Никто из них никогда, даже мельком, не обращал внимания на Ромашова, но он видел в них кусочек какого-то недоступного, изысканного, великолепного мира, где жизнь - вечный праздник и торжество...”. Вдруг взгляд Ромашова упал на уродливые калоши, в которых ходили офицеры в полку, на свою шинель, из-за грязи обрезанную по колени; он вздохнул.
Он идет по шоссе домой. На западе горит апрельская заря. Там клубятся тяжелые сизые облака, рдеют кроваво-красными, и янтарными, и фиолетовыми огнями. А над ними - купол кроткого вечернего весеннего неба, зеленеющего бирюзой и аквамарином. “За яркой вечерней зарей... Ромашову чудилась какая-то таинственная, светозарная жизнь... где живут радостные, ликующие люди”.
Неожиданно вспомнилась недавняя сцена на плацу, грубые крики полковника, чувство обиды и неловкости перед своими солдатами. Больнее всего было то, что он иногда и сам так же кричал на этих молчаливых свидетелей его сегодняшнего позора. Он стал думать о будущем. “Глупости! Вся жизнь передо мной, - думал Ромашов, и, в увлечении своими мыслями, он зашагал бодрее и задышал глубже. - Вот, назло им всем, завтра же с утра засяду за книги, подготовлюсь и поступлю в академию... Буду зубрить как бешеный. И вот, неожиданно для всех, я выдерживаю блистательно экзамен...” Он уже видит себя ученым офицером генерального штаба, ему сулят блестящую будущность... а он, изящный, небрежно-снисходительный, корректный, возвращается в роту... Он посрамляет Шульговича, идет все выше и выше по пути служебной карьеры. Потом едет военным шпионом в Германию, выучив предварительно немецкий язык. Его ловят и расстреливают. Он ведет себя как герой. Но нет, он жив и участвует в войне с Пруссией и Австрией. И снова посрамляет Шульговича. Ромашов вдруг опомнился. Он стоял у своего дома.
Ромашов, даже не раздевшись, долго лежит на кровати, тупо глядя в потолок. Потом, не выдержав больше, зовет своего денщика Гайнана. От поручика Николаева, оказывается, никто не приходил. Ромашова связывают с Гайнаном простые и доверчивые отношения. Гайнан родом черемис, по религии - идолопоклонник. Ромашов часто разговаривает с ним о его богах. Присягу Гайнан принимал весьма оригинально. Полковой адъютант поднес ему кусок хлеба с солью на острие шашки, и он, не трогая хлеба руками, взял его ртом и тут же съел. Смысл был тот, что человек съел хлеб и соль своего хозяина и да покарает его железо, если он будет неверен. Гайнану обряд очень понравился. Не приготовить ли хозяину сюртук? Ромашов решает: не надо, он сегодня нарочно не пойдет, нельзя каждый день надоедать людям. Да ему, кажется, там и не рады... Но в глубине души Ромашов понимает, что все равно пойдет к Николаевым, как вчера, позавчера... Всякий раз при прощании его охватывал стыд, он ругал себя за бесхарактерность, давал себе честное слово не приходить какое-то время, а то и вовсе. На следующий вечер все начиналось сначала.
У Ромашова были большие планы, когда он прибыл в часть год назад. “В первые два года - основательное знакомство с классической литературой, систематическое изучение французского и немецкого языков, занятия музыкой. В последний год - подготовка к академии”. Он собирался следить за общественной жизнью, подписался на популярный журнал, купил несколько книг для самообразования. Из этого ничего не вышло. Ромашов пьет много водки в собрании, связался с нелюбимой полковой дамой, играет с ее мужем в карты и все чаще и чаще тяготятся и службой, и товарищами, и собственной жизнью. Денщик приносит записку от любовницы, как всегда, скучную и глупую. Ромашов разорвал записку в клочья и понял, что, конечно же, пойдет к Николаевым. Гайнан, стесняясь, просит у Ромашова в подарок старый бюст Пушкина. Зачем, не говорит. Пусть берет.
Ромашов остановился у дома Николаевых весь в сомнении и колебаниях. В окне, под загнувшейся портьерой он видит Александру Петровну. Судя по ее позе, она занята рукоделием. По движению ее губ он догадывается, что она с кем-то разговаривает. Ромашов почти силой заставляет себя войти в кухню. Его приглашают пить чай. Николаев сидит спиной к ним, за рабочим столом, нагруженным книгами, атласами и чертежами. Он в этом году должен держать экзамен в академию генерального штаба и готовится, не давая себе отдыха. Он уже два раза сдавал экзамены и провалил. Ромашов чувствует, что мешает. Стараясь сказать что-нибудь приятное, он выражает уверенность в том, что Николаев непременно поступит в академию. Шурочка язвительно возражает. Николаев же уверен, что поступит. В процессе разговора выясняется, что Шурочка знает учебный материал лучше своего мужа, но что толку. “Я не могу... здесь оставаться, Ромочка!” - говорит Александра Петровна. Полковая жизнь с ее пошлыми связями, дикими вечерами, сплетнями и интригами не по ней. Ей нужно.общество, большое, настоящее общество, свет, музыка, поклонение, тонкая лесть, умные собеседники. Главное, чтобы муж вошел в генеральный штаб, а дальше она ему карьеру сделает. Шурочка спрашивает Ромашова, неужели она так некрасива, чтобы киснуть всю жизнь в этой трущобе? “Отвечайте, хороша я или нет?” “Оче"нь красивы”, - отвечает Ромашов. В его голосе печаль и страдание. Он любит Александру Петровну. Она заговаривает об офицерском поединке, который она считает необходимой и разумной вещью. Она не кровожадна, как может показаться Ромашову, - нет, но, по ее мнению, именно в дуэлях ярче всего проявляются такие качества, необходимые офицеру, как смелость, гордость, умение не сморгнуть перед смертью. Николаев поднимается из-за стола - пора ужинать. Николаев не пьет, а для Ромашова поставили графинчик с водкой. Шурочка его стыдит, говорит, что его совратил Назанский... Кстати, он увольняется в отпуск на один месяц. Николаев собирается спать. У Ромашова такое чувство, что Николаев с удовольствием выгоняет его из дома. Шурочка приглашает его приходить еще.
Ромашов идет в темноте вдоль плетня, держась за него руками, и вдруг слышит сердитый голос денщика Николаевых, который провожает своего приятеля: “Ходить, ходить каждый день. И чего ходить, черт его знает!” “Дела, братец ты мой... С жиру это все...” -отзывается другой денщик. Ромашов покрылся холодным потом. “Кончено! Даже денщики смеются, - подумал он с отчаянием. - Какой позор! Дойти до того, что тебя едва терпят, когда ты приходишь...” Ромашов клянется, что никогда больше не придет к Николаевым. Он решил пойти к Назанскому, снимающему комнату у поручика Зегржта, вдовца с четырьмя детьми. Зегржт жалуется, что Назанский не платит ему уже больше месяца. Ромашов заворачивает за угол цома и подходит к окну Назанского. Тот в запое.
Назанский - неординарная натура, погубленная алкоголем. Он умен, .энко чувствует, его волнуют такие вещи, как истинная любовь, красота, человечество, природа, равенство и счастье людей, поэзия, Бог. Он не вынес армейского существования, и все прекрасное, что есть в его натуре, чувствует себя вольно, лишь когда Назанский пьян. Он очень тонко и нежно говорит о любви к женщине. Он сам когда-то любил. Она ушла, потому что он пил, а может быть, еще по какой причине. Назанский показывает Ромашову фрагмент прощального письма той женщины - и Ромашов с ужасом узнает почерк Александры Петровны. А Назанский понимает вдруг, что Ромашов тоже влюблен в. нее. Они расстаются.
Дома Ромашов находит очередное послание от “прежде вашей, теперь ничьей Раисы”. Та намекает, что знает кое-что, в кого влюблен Ромашов. “И у стен есть уши”. “Глупостью, пошлостью, провинциальным болотом и злой сплетней повеяло на Ромашова от этого безграмотного и бестолкового письма”. Ночью он увидел себя во сне мальчиком. Весь мир был светел и чист. Но где-то там, на краю ликующего мира “притаился серенький, унылый городишко с тяжелой и скучной службой... с пьянством в собрании, с тяжестью и противной любовной связью, с тоской и одиночеством”. Он проснулся среди ночи в слезах.
Почти все офицеры не любили службу, тяготились ею, неся ее как опротивевшую барщину. Низкое жалованье придавливало к земле семейных, заставляя даже прежде честных идти на воровство из ротных сумм и из платы солдатам. Некоторые перебивались карточной игрой, при этом научившись мухлевать. Пили постоянно и везде. Так что офицерам порой было просто не до того, чтобы серьезно исполнять свои обязанности. Однако перед большими смотрами все подтягивались, доводя солдат до изнурения в попытках наверстать упущенное время. Особенно старались этой весной, потому что смотр должен был производить один очень взыскательный боевой генерал.
Ромашова все это не касалось. Он маялся в своей крошечной комнатке. Как ни странно, Ромашов остался наедине сам с собой впервые за полтора года. За окном светилось яркое, влажное утро. И Ромашову вдруг до слез захотелось выйти на улицу. Он как будто раньше не знал цены свободе и только теперь понял, какое это счастье - идти куда хочешь. Ему вспомнилось, как в раннем детстве мать, наказывая его, привязывала тоненькой ниткой за ногу к кровати, а сама уходила. И мальчик сидел покорно целыми часами. Вообще-то он был жив и непоседлив, но нитка действовала на него магически, он боялся даже слишком сильно натянуть ее, чтобы не лопнула. Ромашов задумывается о том, что такое Я, личность человека, как он сам воспринимает Я других, а они - его.
Нет сигарет, а буфетчик в долг не дает. И вдруг снова появляется Гай-нан и ласково протягивает ему пачку сигарет - подарок от него. Ромашов растроган. Он ходит по комнате, размышляя о том, что ведь все люди на свете могут сказать “нет” войне - тогда что, войны больше не будет? Что такое война - мировая ошибка? Ведь никто не хочет умирать. Что же делать? Уйти со службы? Но что он умеет делать? Он привык жить на всем готовом. Под окном раздается певучий женский голос. Это Шурочка. Ромашов дернул на себя раму окна, взял протянутую ему руку в перчатке и смело начал ее целовать. Денщик поднес к окну корзину с пирожками. Потом появился Николаев. Шурочка сказала быстрым шепотом: “...у меня единственный человек, с кем я, как с другом, - это вы. Слышите?”
После обеда к Ромашову заехал полковой адъютант с поручением отвезти его к полковнику. Растерявшийся Ромашов быстро одевается, стесняясь своей бедности, и садится вместе с адъютантом в коляску, запряженную парой рослых лошадей. По дороге им попадается несколько офицеров - они смотрят на Ромашова с насмешкой или удивлением. В кабинете Шуль-говича кто-то был, Ромашову пришлось ждать в полутемной передней. Из кабинета доносился командирский бас, который кого-то распекал. В ответ задребезжал робкий, молящий голос. Речь шла о пьянстве. Полковник угрожал офицеру увольнением, тот ссылался на детей, которых нечем будет кормить. Наконец полковник прощает виновного: “В последний раз. Но пом-ни-те, это в последний раз... А затем вот вам мой совет-с: первым делом очиститесь вы с солдатскими деньгами и с отчетностью”. Зная, что у офицера денег нет, полковник сует ему триста рублей.
“В переднюю вышел, весь красный, с каплями пота на носу и на висках и с перевернутым, смущенным лицом, маленький капитан Световидов... Увидев Ромашова, он засеменил ногами, шутовски-неестественно захихикал... Глаза его... точно щупали Ромашова: слыхал он или нет?”
Денщик ввел в кабинет Ромашова. Огромное старческое лицо с седой короткой щеткой волос на голове и с седой бородой клином было сурово и холодно. Бесцветные светлые глаза глядели враждебно. Полковник делает выговор Ромашову за недостойное поведение. Кроме того, до полковника дошло, что Ромашов пьет. Он предупреждает его, что такой путь может вывести его вон из офицерской семьи. Ромашов слушает и думает, что ведь он не дорожит этой семьей, готов хоть сейчас уйти в запас. Почему же он молчит и ничего не говорит? Полковник вспоминает прошлогодний случай, когда Ромашов, не прослужив и года, просился в отпуск из-за болезни матери. Вроде письмо какое-то от нее было... Ромашов почувствовал, как на него накатывает гнев. “...Когда полковник заговорил о его матери, кровь вдруг горячим, охмеляющим потоком кинулась в голову Ромашову... В первый раз он поднял глаза кверху и в упор посмотрел прямо в переносицу Шульговичу с ненавистью, с твердым и - это он сам чувствовал у себя на лице - с дерзким выражением, которое сразу как будто уничтожило огромную лестницу, разделяющую маленького подчиненного от грозного начальника. Вся комната вдруг потемнела, точно в ней задернулись занавески... Странный, точно чужой голос шепнул вдруг извне в ухо Ромашову: "Сейчас я его ударю"... Затем, как во сне, увидел он, еще не понимая этого, что в глазах Шульговича попеременно отразились удивление, страх, тревога, жалость...” Ромашов вдруг почувствовал, что гнев спал, он, точно просыпаясь, глубоко и сильно вздохнул. Шульгович суетливо указал ему на стул. Он оправдывается, говорит, что погорячился, перехватил через край, и приглашает его обедать. Ромашову за обедом неловко, он стесняется, не знает, куда девать руки. Ему очень хочется встать и уйти. Наконец обед кончен. “Опять шел Ромашов домой, чувствуя себя одиноким, тоскующим, потерявшимся в каком-то чужом, темном и враждебном месте. Опять горела на западе... красно-янтарная заря, и опять Ромашову чудился далеко за чертой горизонта, за домами и полями, прекрасный фантастический город с жизнью, полной красоты, изящества и счастья”.
Придя домой, он застал Гайнана в его темном чулане перед бюстом Пушкина, вымазанным маслом. Перед ним горела свеча. Гайнан молился. Появление Ромашова испугало Гайнана, но тот его успокоил. В этот вечер Ромашов не пошел в собрание, а сел писать, уже третью по счету, повесть “Последний роковой дебют”, о которой никому не говорил.
Ромашов пришел в собрание в девять часов, застав там всего несколько холостых офицеров. Дамы еще не съезжались. В бильярдной шла игра на пиво. Ромашов должен был распоряжаться балом. И вот, одна за другой, появляются дамы. Прежде, год тому назад, Ромашов очень любил эти минуты перед балом, веселую суету. Но все это ушло. Слишком многое он узнал. Он понимал теперь, что дамы подражают героям романов, что полковые дамы годами носят одно и то же “шикарное” платье, делая жалкие попытки обновлять его к особым случаям. Его смешило их пристрастие к разным эгреткам, шарфикам, огромным поддельным камням, к перьям и обилию лент. Они сильно белились и красились. Но самое неприятное было то, что Ромашов знал закулисные истории каждого бала, каждого платья, чуть ли не каждой кокетливой фразы, знал все любовные истории, происходившие между всеми семьюдесятью пятью офицерами и их женами и родственницами. Заметив у входной двери Раису Александровну Петерсон, Ромашов прячется и упрашивает поручика Бобетинского подирижировать вместо него.
В столовой идет разговор об офицерских поединках, только что разрешенных. У них есть и сторонники, и противники. Большинство поддерживает. Показавшаяся в дверях Раиса кокетливо воскликнула, что дамы хотят танцевать. К ней подлетает Бобетинский. Окончив танец со следующим кавалером, она села неподалеку от Ромашова, продолжая игриво-пошлый разговор так, чтобы Ромашов все слышал. Ромашов смотрит искоса на Петерсон и думает: “О, какая она противная!” Тут Раиса сделала вид, что заметила Ромашова, и завела с ним разговор. Во время кадрили Раиса обвиняет Ромашова, что ради него она обманула своего мужа, которого обычно называла: “мой дурак”, “этот болван, который вечно торчит” и т. п. Ромашов говорит Раисе, что не любит ее и их связь была стыдной и пошлой. Раиса Петерсон разражается безобразной бранью по адресу Шурочки. Ромашов же краснел до настоящих слез от своего бессилия и растерянности. На них уже начали обращать внимание. Раиса грозит открыть глаза “этому дураку Николаеву”.
“Я падаю, я падаю, - думал он с отвращением и со скукой. - Что за жизнь! Что-то тесное, серое и грязное... Эта развратная и ненужная связь, пьянство, тоска, убийственное однообразие службы, и хоть бы одно живоеслово, хоть бы один момент чистой радости. Книги, музыка, наука - где все это?” “О, что мы делаем!.. Сегодня напьемся пьяные, завтра в роту - раз, два, левой, правой, - вечером опять будем пить, а послезавтра опять в роту. Неужели вся жизнь в этом? Нет, вы подумайте только - вся, вся жизнь!” Он остается в собрании всю ночь.
Проспав, как это бывает часто, и опоздав на утреннюю гимнастику, Ромашов с неприятным чувством стыда и тревоги подходит к плацу, где занимается его рота. Он боится встречи с ротным командиром Сливой. “Этот человек представлял собой грубый и тяжелый осколок прежней... жестокой дисциплины, с повальным драньем, мелочной формалистикой, маршировкой в три темпа и кулачной расправой. Даже в полку, который благодаря условиям дикой провинциальной жизни не отличался особенно гуманным направлением, он являлся каким-то диковинным памятником этой свирепой военной старины... Все, что выходило за пределы строя, устава и роты... для него не существовало... он не прочел ни одной книги и ни одной газеты... Рассказывали... что в одну чудесную весеннюю ночь, когда он сидел у открытого окна и проверял ротную отчетность, в кустах рядом с ним запел соловей. Слива... крикнул денщику”, чтобы прогнал птицу камнем. Слива бил солдат жестоко, до крови, до того, что провинившийся падал с ног под его ударами. “Зато к солдатским нуждам он был внимателен до тонкости: денег, приходивших из деревни, не задерживал и каждый день следил лично за ротным котлом...” Вот его-то и боялся Ромашов, зная, что тот ни в чем не спускает молодым офицерам. Однако на этот раз все ограничилось замечанием.
Идут занятия на наклонной лестнице. Солдаты, один за другим, подтягиваются по ней на руках. И вот подходит очередь солдата Хлебникова. Ромашов удивлялся, как могли взять в армию такого жалкого, заморенного человека, почти карлика, с безусым лицом в кулачок. Хлебников повисает па руках, безобразный, неуклюжий, точно удавленник. Унтер-офицер кричит на него, он пытается подняться, но лишь дрыгает ногами и раскачивается из стороны в сторону. И вдруг, оторвавшись от перекладины, падает мешком на землю. Ромашов резко останавливает унтер-офицера, набросившегося на солдата с кулаками: “Не смей этого делать никогда!”
Описываются занятия “словесностью” в ротной школе. Их ведет безграмотный унтер-офицер полуроты Шаповаленко, который говорит так: “Свяченая воинская херугва, вроде как образ”. У Хлебникова, как обычно, ничего не получается, и Ромашов слышит шипение унтер-офицера: “Вот погоди, я тебе после учения разглажу морду-то!” После словесности во дворе начинаются приготовления к стрельбе. После стрельбы отдых. К Ромашову подходит Веткин: “Плюньте, Юрий Алексеевич!.. Стоит ли? Вот кончим учение, пойдем в собрание, тяпнем по рюмочке, и все пройдет. А?.. Надо же людей учить делу. А вдруг война?” “Разве что война, - уныло соглашается Ромашов. - А зачем война? Может быть, все это какая-то общая ошибка, какое-то всемирное заблуждение, помешательство? Разве естественно убивать?” “Если так думать, то уж лучше не служить... Только вопрос: куда же мы с вами денемся, если не будем служить?” Ромашов слышит, как кто-то придирается к забитому Хлебникову. Но что он может сделать? После учения Веткин и Ромашов пошли в собрание и напились.
23 апреля - день именин и Александры Петровны, и Юрия Ромашова. Утром денщик Николаевых приносит записку: Александра Петровна пишет, что, несмотря ни на что, хочет сегодня его видеть. Просит прийти к пяти часам. Будет пикник. Ромашов не был у Николаевых уже целую неделю, у него нет денег не только на подарок, но даже и на чаевые этому противному николаевскому денщику, который говорил: “Ходить, ходить каждый день”. У Ромашова очень плохо с деньгами, все жалованье разошлось по векселям, в кредит ему не дают нигде. Можно было только брать обед и ужин в собрании. Ромашов перебирает в уме офицеров полка. И вдруг вспоминает подполковника Рафальского, которого все зовут полковником Бремом. Это старый холостяк, посвящающий все свое время своим милым зверям - птицам, рыбам и четвероногим, которых был у него большой и оригинальный зверинец. Этот человек был добр не только к животным, но и к людям, и когда был при деньгах, редко отказывал в небольших одолжениях. Сам он все свои сбережения тратил на зверинец, а питался из котла пятнадцатой роты, куда вносил для солдатского приварка более чем значительную сумму. Рафальс-кий много и интересно рассказывает Ромашову о животных. Он сообщает, что полк вроде бы собираются переводить в другой город, и страшно озабочен перевозкой своего зверинца. Рафальский дает Ромашову десять рублей.
Подъезжая к дому Николаевых, Ромашов чувствует, что к радостному чувству, владевшему им весь день, примешивается что-то смутно-мрачное, тревожное. Это что-то такое, что случилось раньше, надо отыскать причину тревоги. Он начинает перебирать в обратном порядке все впечатления дня. Вот это что! - странная подчеркнутая фраза в письме: несмотря, ни на что. Значит, что-то есть? Может, дело в Николаеве? Он проедет мимо! Ромашов уже почти проехал мимо дома, когда его окликнула из раскрытой двери Александра Петровна. Она вводит его в дом, где уже собрались гости. Дамы, как это было принято в офицерском обществе, сидели особняком. Около них сидел один штабс-капитан Диц. Этот офицер, похожий своей затянутой фигурой и типом своего поношенного и самоуверенного лица на прусских офицеров, как их рисуют в немецких карикатурах, был переведен в пехотный полк из гвардии за какую-то темную, скандальную историю. Он отличался непоколебимым апломбом в обращении с мужчинами и наглой предприимчивостью - с дамами и вел большую, всегда счастливую игру, но не в офицерском собрании, а в гражданском клубе, в домах городских чиновников и у окрестных польских помещиков. В полку его не любили и побаивались, считали способным на подлость. Николаев здоровается с Ромашовым с любезной улыбкой, но в глазах отчуждение. Все рассаживаются по экипажам, чтобы ехать на пикник. К Ромашову подходит Михин. Он просит его взять к себе в экипаж его молоденьких сестер, иначе они окажутся вместе с Дицем, который говорит им гадости. Ромашов мечтал ехать вместе с Шурочкой, но соглашается. Рядом с Собой он сажает штабс-капитана Лещенко, который, как обычно, никуда не помещается. Экипажи тронулись.
Приехав на место, расстелили на земле скатерти и стали рассаживаться. Дамы расставляли закуски и тарелки. Шурочка была так весела и возбуждена, что это заметили все. Иногда она молча оборачивалась к Ромашову. Осадчий поднимает тост за именинницу. Потом пили за здоровье Николаева и за его успех на будущей службе в генеральном штабе, как будто все были уверены, что он поступит в академию. По предложению Шурочки, выпили и за именинника Ромашова. Был поднят тост и за государя, после чего все спели гимн. Пили очень много. Осадчий поднимает тост за веселую радость прежних войн, за веселую и кровавую жестокость. К нему присоединяется Бек-Агамалов. Остальные подавленно молчат. Начало темнеть, решили разжечь костер. Несколько офицеров садятся за карты. Затевается игра в горелки, но ненадолго - старшая Михина, которую поймал Диц, раскраснелась до слез и наотрез отказалась играть.
Ромашов идет в глубь рощи по узкой тропинке. Слышит шаги и шелест позади - его догоняет Шурочка и говорит: “Я в вас влюблена сегодня... Я вас сегодня видела во сне... будто мы с вами танцуем вальс в какой-то необыкновенной комнате... и было так невыразимо чудно-приятно... И вот, после этого сна, утром мне захотелось вас видеть”. Ромашов признается Шурочке в любви. Она отстраняется от него: “Ромочка, зачем вы такой... слабый! ...меня влечет к вам, вы мне милы всем: своей неловкостью, своей чистотой, своей нежностью... Но зачем вы такой жалкий! ...я не могу уважать вас... Если бы вы могли завоевать себе большое имя, большое положение!..” Ромашов уверяет, что он всего добьется, но Шурочка ему не верит. Она признается, что ей уже второй раз приходится отказываться от милого человека. Своего мужа Шурочка не любит. К тому же он дико ревнив. Шурочка верна мужу, потому что не хочет обмана. Она не хочет тайного воровства. Они идут к костру. Шурочка говорит Ромашову, что он больше не должен у них бывать. Мужу постоянно приходят грязные анонимные письма про нее и про Ромашова.
Первого мая полк выступил в лагеря, которые находились в двух верстах от города, но Ромашов остался жить в городе, так что приходилось делать в день четыре конца: на утреннее учение, потом обратно в собрание - на обед, затем на вечернее учение и после него снова в город. Он похудел, глаза у него ввалились. Но тяжело приходилось всем. Готовились к майскому смотру. Ротные командиры держали свои роты на плацу по три лишних часа. Отовсюду слышались звуки пощечин, жестоких ударов, так что человек падал на землю. Солдаты осунулись и выглядели идиотами. Из палаток не слышалось ни смеха, ни шуток. Одной только пятой роте жилось хорошо и свободно. Ею командовал капитан Стельковский, странный человек, имевший свой небольшой доход. Он был независимого характера, держался замкнуто и при этом был большой развратник. Стельковский заманивал себе в прислуги молоденьких девушек из простонародья, а через месяц отпускал домой, наградив деньгами. В его роте не было мордобоя. Стельковский, сам человек терпеливый, хладнокровный и настойчивый, сумел обучить этому и своих унтер-офицеров. Солдаты его обожали.
Наступило пятнадцатое мая. Корпусной командир должен был провести смотр полка. В этот день людей в полку подняли зачем-то в четыре часа утра, хотя общий сбор был назначен на десять. В девять часов роты собрались на плацу. А ровно без десяти минут десять вышла из лагеря пятая рота. Началось ожидание прибытия корпусного. Наконец послышалось: “Едет, едет!” Понеслись звуки встречного марша. Какая-то бодрая, смелая волна вдруг подхватила Ромашова. Корпусный объехал поочередно все роты. Начинается проход рот. Корпусный велит убрать роту Осадчего, обучившего своих солдат какой-то особой шагистике. “С этого начался провал полка. Утомление и запуганность солдат, бессмысленная жестокость унтер-офицеров, бездушное, рутинное и халатное отношение офицеров к службе - все это ясно, но позорно обнаружилось на смотру”. Великолепно показала себя только пятая рота. Прочие роты проваливались одна за другой. Оставался церемониальный марш, на который возлагались все надежды.
“Легким и лихим шагом выходит Ромашов перед серединой своей полуроты. Что-то блаженное, красивое и гордое растет в его душе... Красота момента опьяняет его”. “Посмотрите, посмотрите, - это идет Ромашов”. “Слышен голос корпусного командира, вот голос Шульговича, еще чьи-то голоса... Ромашов обернулся назад и побледнел. Вся его полурота вместо двух прямых, стройных линий представляла из себя безобразную, изломанную по всем направлениям, стеснившуюся, как овечье стадо, толпу. Это случилось оттого, что подпоручик, упоенный своим восторгом и своими пылкими мечтами, сам не заметил того, как шаг за шагом передвигался от середины вправо, наседая в то же время на полуроту, и, наконец, очутился на ее правом фланге, смяв и расстроив общее движение... Ромашов... увидел и рядового Хлебникова, который... упал на ходу и теперь, весь в пыли, догонял свою полуроту, низко согнувшись под тяжестью амуниции, точно бежа на четвереньках, держа в одной руке ружье за середину, а другой рукой беспомощно вытирая нос”. Ромашову объявляют строжайший выговор, отправляют на семь дней на гауптвахту. Капитан Слива требует у него рапорт о переводе в другую роту. Ромашову хочется застрелиться. Он отделился от офицеров и пошел дальней дорогой. Проходя сзади палаток своей роты, он слышит крики и удары. Бьют Хлебникова. Но у Ромашова нет сейчас сил заступиться за него, он пробегает мимо.
орога из лагеря к городу пересекает полотно железной дороги, которое там, куда пришел Ромашов, проходило в крутой и глубокой выемке. Ромашов сбежал вниз и начал с трудом взбираться по другому откосу, когда заметил, что наверху стоит какой-то человек в кителе и в шинели внакидку. Это был Николаев. Он спрашивает, уважает ли Ромашов его жену, Александру Петровну? Ромашов не мог понять, почему его об этом спрашивают. Николаев объясняет, что вокруг его жены ходит грязная сплетня, связанная с Ромашовым. Якобы они любовники и встречаются ежедневно. Такиеподлые письма приходят почти каждый день. Ромашов говорит: он знает, кто пишет эти письма. Николаев требует, чтобы Ромашов заткнул рот этой сволочи. Ромашов обещает сделать все возможное. А у Александры Петровны он не бывает, зашел только несколько дней назад - принес ее книги. Они расстались. Дома он сорвал раздражение на ни в чем не повинном Гайнане, предлагавшем ему принести обед из собрания, и лег в постель. Ему хотелось плакать, он снова и снова вызывал в воображении события прошедшего дня и жалел себя. Потом забылся на несколько часов. Когда очнулся, решил поесть. Подойдя к зданию собрания, Ромашов услышал смачный рассказ Сливы про его позор. Он повернулся и пошел бродить по городу. Он шел как в бреду, ничего не видя, и снова оказался там, где встречался с Николаевым. Ему снова приходит мысль о самоубийстве, но как-то по-детски - он представляет, что вот он лежит мертвый, все расстроены, жалеют его, на груди у него букетик фиалок... Ромашов, остановившись у железной дороги, видит на другой стороне выемки, освещенной луной, темное пятно, спускающееся вниз к рельсам. Ромашов узнает Хлебникова. Тот шел как во сне и даже не заметил Ромашова, пройдя совсем близко от него. Ромашов окликнул солдата. Тот ахнул и задрожал. Ромашов быстро поднялся. Перед ним было мертвое, истерзанное лицо, с разбитыми, опухшими, окровавленными губами. На вопрос, куда он идет, Хлебников не ответил и отвернулся. Вместо слов из его глотки вырвалось хрипение. Ромашов потянул Хлебникова за рукав вниз. Солдат, словно манекен, послушно упал на траву рядом с Ромашовым. Он дрожал всем телом и только хрипел, когда Ромашов спрашивал его о чем-нибудь. И вдруг чувство бесконечного сострадания охватило Ромашова. “...Он нежно и крепко обнял Хлебникова за шею, притянул к себе и заговорил горячо, со страстной убедительностью: "Хлебников, тебе плохо? И мне нехорошо, голубчик, мне тоже нехорошо, поверь мне. Я ничего не понимаю из того, что делается на свете. Все - какая-то дикая, бессмысленная, жестокая чепуха! Но надо терпеть, мой милый, надо терпеть... Это надо". Низко склоненная голова Хлебникова вдруг упала на колени Ромашову”. Солдат, пытаясь сдержать рыдания, стал рассказывать о своей страшной жизни. “Бесконечная скорбь, ужас, непонимание и глубокая, виноватая жалось переполнили сердце офицера и до боли сжали и стеснили его. И, тихо склоняясь к стриженой, колючей, грязной голове, он прошептал чуть слышно: "Брат мой!"” Ромашов повел Хлебникова в лагерь и приказал освободить его от дневальства. Он приглашает Хлебникова прийти к нему завтра домой.
С этой ночи Ромашов круто изменился. Он перестал общаться тесно с офицерами, обедал обычно дома, не ходил больше на танцевальные вечера в собрание и бросил пить. Он как будто повзрослел за несколько последних дней. Ромашов подумал, что прошло еще одно семилетие в его жизни - ему исполнилось двадцать два года, - а ведь говорят, что человек становится другим каждые семь лет.
Солдат Хлебников стал заходить к нему. Сначала он был похож на голодную, опаршивевшую, много битую собаку, пугливо отскакивающую от ласковой руки, но потом стал понемногу отходить. С жалостью слушал Ромашов рассказ солдата о его страшной и безысходной жизни. Он постарался устроить для него небольшой заработок, вызвав этим насмешки унтер-офицеров и капитана Сливы. В свободное время, которого теперь стало много, Ромашов начал думать. Раньше он даже и не подозревал, сколько радости и интереса скрывается в такой простой вещи, как человеческая мысль. Прежде мир делился для него на две неравные части: меньшая - офицерство, которому свойственны честь, сила, власть, волшебное достоинство мундира и непременно храбрость; другая - огромная и безличная - штатские, иначе шпаки, которых презирали. “И вот теперь... Ромашов понемногу начинал понимать, что вся военная служба с ее призрачной доблестью создана жестоким, позорным всечеловеческим недоразумением... и что существуют только три гордых призвания человека: наука, искусство и свободный физический труд”. Он твердо решил уйти в запас, как только пройдут три года, что он должен был отслужить после военного училища. Его тянуло писать. Он хотел написать повесть или большой роман, в котором отразились бы ужас и скука военной жизни. Но получалось плохо. Был конец мая, и Ромашов часто бродил ночами по городу и всякий раз проходил по другой стороне улицы, сдерживая дыхание, мимо окон Шурочки. Однажды, зная, что Николаева не будет дома, он бросил ей в окно охапку нарциссов. На следующий день получил записку: “Не смейте никогда больше этого делать. Нежности во вкусе Ромео и Джульетты смешны, особенно если они происходят в армейском пехотном полку”.
В самом конце мая в роте капитана Осадчего повесился солдат. Точно такой же случай был в этот же день в прошлом году. В полку начинается повальная пьянка. К Ромашову приходит Веткин и почти насильно уводит его с собой в офицерское собрание. Ромашов идет, “мысленно браня себя за тряпичное безволие”. В собрании он чувствует сначала неловкость и брезгливость, которые охватывают трезвого человека в пьяной компании. Все едут в публичный дом. Ромашов, успевший уже напиться, то и дело теряет память, не понимая, где он и что происходит. В разгар пьяной оргии в дверях показываются двое штатских. Офицеры набрасываются на них. И вдруг раздался бешеный крик Бек-Агамалова: “Все вон отсюда! Никого не хочу!” Он выхватывает из ножен шашку и принимается крушить все вокруг. “Зарублю-у-у-у!” -кричит он. Ромашов, неожиданно для себя, крепко хватает Бек-Агамалова за кисть руки и одновременно пытается уговорить его. В конце концов тот со стуком вбрасывает шашку в ножны. При выходе на улицу Бек-Агамалов подходит к Ромашову и предлагает сесть к нему в экипаж. Уже в пути он “ощупью нашел его руку и крепко, больно и долго сжал ее”.
В собрании, куда все возвращаются, пьянка продолжается. В полку было много офицеров из духовных. Веткин начинает петь. Осадчий заводит панихиду и уже в самом ее конце вдруг добавляет ужасное, циничное ругательство. Ромашов возмущен. И опять началась безобразная пьяная оргия. Ромашов вдруг видит перед собой чье-то лицо, которое он сначала даже не узнал - так оно было исковеркано и обезображено злобой. Это Николаев. Он кричит, что такие, как Ромашов и Назанский, позорят полк. Подошедший сзади Бек-Агамалов пытается удержать Ромашова от скандала. Но поздно. Николаев замахивается на Ромашова кулаком. Тот выплескивает ему в лицо остатки пива из стакана. Начинается дикая драка. Ромашов вызывает Николаева на дуэль. 20 "
Ромашова вызывают в суд общества офицеров полка. Он приходит, его просят подождать, и он садится в столовой у открытого окна. Вскоре в столовой появляется Николаев и вскоре выходит на улицу. Вдруг Ромашов слышит со двора за своей спиной его голос. Николаев просит не упоминать ни словом о жене и анонимных письмах. Ромашова приглашают в зал. Он рассказывает о ссоре, о том, что он был пьян. Но капитан Петерсон старается выпытать у него что-нибудь этакое о его отношениях с семейством Николаевых. Ромашов все отрицает наотрез. На этом заседание кончилось. По городу пошли сплетни, Ромашова считают героем дня. Вечером его и Николаева, теперь уже вместе, вызывают в суд. Решение таково: поединок является единственным средством удовлетворения оскорбленной чести и офицерского достоинства. Но за обоими сохраняется право оставить службу.
Ромашов приглашает в секунданты Бег-Агамалова и Веткина и идет к Назанскому.
Они едут кататься на лодке. Ромашов подробно рассказывает о своем столкновении с Николаевым. Назанский спрашивает, боится ли Ромашов. Да, ему страшно. Но он знает, что не струсит, не убежит, не попросит прощенья. Назанский говорит в ответ, что во много раз смелее будет взять и отказаться от дуэли. “Все на свете проходит... но о человеке, которого вы убили, вы никогда не забудете... вы отнимаете у человека его радость жизни... А... посмотрите только, как прекрасна, как обольстительна жизнь!” На вопрос Ромашова, что же ему делать - уходить в запас? - Назанский отвечает: “Разве вы верите в то, что служите интересному, хорошему, полезному делу?.. Ведь вы совсем не верите в это”. По мнению Назанского, главное - не бояться жизни: “она веселая, занятная, чудная штука - эта жизнь. Ну, ладно, не повезет вам... Но ведь... любой бродяжка живет в десять тысяч раз полнее и интереснее, чем Адам Иваныч Зегржт или капитан Слива... есть только одно непреложное, прекрасное и незаменимое - свободная душа, а с нею творческая мысль и веселая жажда жизни... Уходите, Ромашов... я сам попробовал воли, и если вернулся назад... то виною тому... ну, да ладно... вы понимаете. Смело ныряйте в жизнь, она вас не обманет”.
Возвратившись домой, Ромашов находит там ожидающую его Шурочку. У нее свои планы. Она не любит мужа, но убила на него часть своей души. Это она толкает мужа в академию и непременно этого добьется. А теперь... Если Ромашов убьет ее мужа или если его отставят от экзамена - кончено. Она уедет и погубит себя. Ромашов готов извиниться. Шурочке нужно вовсе не это. Если Ромашов откажется от дуэли, то честь мужа будет реабилитирована, но в дуэли, окончившейся примирением, всегда остается что-то сомнительное. И мужа могут не допустить до экзаменов. “Тесно обнявшись, они шептались, как заговорщики... Но Ромашов почувствовал, как между ними незримо проползало что-то тайное, гадкое, склизкое, от чего пахнуло холодом на его душу”. Он опять хотел высвободиться из ее рук, но она его не отпускала. Стараясь скрыть непонятное, глухое раздражение, он сказал сухо: “Ради бога, объяснись прямее. Я все тебе обещаю”. А Шурочке нужно вот что: они должны стреляться. Нет, нет, ни один не будет ранен.
Она об этом позаботилась. А чтобы окончательно укрепить решимость Ромашова сделать все так, как она хочет, Шурочка пускает в ход последнее женское оружие - постель.
Глава представляет собой рапорт штабс-капитана Дица командиру полка о поединке между поручиком Николаевым и подпоручиком Ромашовым. Николаев стрелял первый и ранил Ромашова в правую верхнюю часть живота. Подпоручик Ромашов выстрелить в ответ был не в состоянии и вскоре скончался.
Вернувшись с плаца, подпоручик Ромашов подумал: «Сегодня не пойду: нельзя каждый день надоедать людям». Ежедневно он просиживал у Николаевых до полуночи, но вечером следующего дня вновь шел в этот уютный дом.
«Тебе от барыни письма пришла», - доложил Гайнан, черемис, искренне привязанный к Ромашову. Письмо было от Раисы Александровны Петерсон , с которой они грязно и скучно (и уже довольно давно) обманывали её мужа. Приторный запах её духов и пошло-игривый тон письма вызвал нестерпимое отвращение. Через полчаса, стесняясь и досадуя на себя, он постучал к Николаевым. Владимир Ефимыч был занят. Вот уже два года подряд он проваливал экзамены в академию, и Александра Петровна, Шурочка, делала все, чтобы последний шанс (поступать дозволялось только до трех раз) не был упущен. Помогая мужу готовиться, Шурочка усвоила уже всю программу (не давалась только баллистика), Володя же продвигался очень медленно.
С Ромочкой (так она звала Ромашова) Шурочка принялась обсуждать газетную статью о недавно разрешенных в армии поединках . Она видит в них суровую для российских условий необходимость. Иначе не выведутся в офицерской среде шулера вроде Арчаковского или пьяницы вроде Назанского. Ромашов не был согласен зачислять в эту компанию Назанского, говорившего о том, что способность любить дается, как и талант, не каждому. Когда-то этого человека отвергла Шурочка, и муж её ненавидел поручика.
На этот раз Ромашов пробыл подле Шурочки, пока не заговорили, что пора спать.
На ближайшем же полковом балу Ромашов набрался храбрости сказать любовнице, что все кончено. Петерсониха поклялась отомстить. И вскоре Николаев стал получать анонимки с намеками на особые отношения подпоручика с его женой. Впрочем, недоброжелателей хватало и помимо нее. Ромашов не позволял драться унтерам и решительно возражал «дантистам» из числа офицеров, а капитану Сливе пообещал, что подаст на него рапорт, если тот позволит бить солдат.
Недовольно было Ромашовым и начальство. Кроме того, становилось все хуже с деньгами, и уже буфетчик не отпускал в долг даже сигарет. На душе было скверно из-за ощущения скуки, бессмысленности службы и одиночества.
В конце апреля Ромашов получил записку от Александры Петровны. Она напоминала об их общем дне именин (царица Александра и её верный рыцарь Георгий). Заняв денег у подполковника Рафальского, Ромашов купил духи и в пять часов был уже у Николаевых. Пикник получился шумный. Ромашов сидел рядом с Шурочкой, почти не слушал разглагольствования Осадчего, тосты и плоские шутки офицеров, испытывая странное состояние, похожее на сон. Его рука иногда касалась Шурочкиной руки, но ни он, ни она не глядели друг на друга. Николаев, похоже, был недоволен. После застолья Ромашов побрел в рощу. Сзади послышались шаги. Это шла Шурочка. Они сели на траву. «Я в вас влюблена сегодня», - призналась она. Ромочка привиделся ей во сне, и ей ужасно захотелось видеть его. Он стал целовать её платье: «Саша… Я люблю вас…» Она призналась, что её волнует его близость, но зачем он такой жалкий. У них общие мысли, желания, но она должна отказаться от него. Шурочка встала: пойдемте, нас хватятся. По дороге она вдруг попросила его не бывать больше у них: мужа осаждают анонимками.
В середине мая состоялся смотр. Корпусный командир объехал выстроенные на плацу роты, посмотрел, как они маршируют, как выполняют ружейные приемы и перестраиваются для отражения неожиданных кавалерийских атак, - и остался недоволен. Только пятая рота капитана Стельковского, где не мучили шагистикой и не крали из общего котла, заслужила похвалу.
Самое ужасное произошло во время церемониального марша. Ещё в начале смотра Ромашова будто подхватила какая-то радостная волна, он словно бы ощутил себя частицей некой грозной силы. И теперь, идя впереди своей полуроты, он чувствовал себя предметом общего восхищения. Крики сзади заставили его обернуться и побледнеть. Строй смешался - и именно из-за того, что он, подпоручик Ромашов, вознесясь в мечтах к поднебесью, все это время смещался от центра рядов к правому флангу. Вместо восторга на его долю пришелся публичный позор. К этому прибавилось объяснение с Николаевым, потребовавшим сделать все, чтобы прекратить поток анонимок, и ещё - не бывать у них в доме.
Перебирая в памяти случившееся, Ромашов незаметно дошагал до железнодорожного полотна и в темноте разглядел солдата Хлебникова, предмет издевательств и насмешек в роте. «Ты хотел убить себя?» - спросил он Хлебникова, и солдат, захлебываясь рыданиями, рассказал, что его бьют, смеются, взводный вымогает деньги, а где их взять. И учение ему не под силу: с детства мается грыжей.
Ромашову вдруг свое горе показалось таким пустячным, что он обнял Хлебникова и заговорил о необходимости терпеть. С этой поры он понял: безликие роты и полки состоят из таких вот болеющих своим горем и имеющих свою судьбу Хлебниковых.
Вынужденное отдаление от офицерского общества позволило сосредоточиться на своих мыслях и найти радость в самом процессе рождения мысли. Ромашов все яснее видел, что существует только три достойных призвания: наука, искусство и свободный физический труд.
В конце мая в роте Осадчего повесился солдат. После этого происшествия началось беспробудное пьянство. Сначала пили в собрании, потом двинулись к Шлейферше. Здесь-то и вспыхнул скандал. Бек-Агамалов бросился с шашкой на присутствующих («Все вон отсюда!»), а затем гнев его обратился на одну из барышень, обозвавшую его дураком. Ромашов перехватил кисть его руки: «Бек, ты не ударишь женщину, тебе всю жизнь будет стыдно».
Гульба в полку продолжалась. В собрании Ромашов застал Осадчего и Николаева. Последний сделал вид, что не заметил его. Вокруг пели. Когда наконец воцарилась тишина, Осадчий вдруг затянул панихиду по самоубийце, перемежая её грязными ругательствами. Ромашова охватило бешенство: «Не позволю! Молчите!» В ответ почему-то уже Николаев с исковерканным злобой лицом кричал ему: «Сами позорите полк! Вы и разные Назанские!» «А при чем же здесь Назанский?
Или у вас есть причины быть им недовольным?» Николаев замахнулся, но Ромашов успел выплеснуть ему в лицо остатки пива.
Накануне заседания офицерского суда чести Николаев попросил противника не упоминать имени его жены и анонимных писем. Как и следовало ожидать, суд определил, что ссора не может быть окончена примирением.
Ромашов провел большую часть дня перед поединком у Назанского, который убеждал его не стреляться. Жизнь - явление удивительное и неповторимое. Неужели он так привержен военному сословию, неужели верит в высший будто бы смысл армейского порядка так, что готов поставить на карту само свое существование?
Вечером у себя дома Ромашов застал Шурочку. Она стала говорить, что потратила годы, чтобы устроить карьеру мужа. Если Ромочка откажется ради любви к ней от поединка, то все равно в этом будет что-то сомнительное и Володю почти наверное не допустят до экзамена. Они непременно должны стреляться, но ни один из них не должен быть ранен. Муж знает и согласен. Прощаясь, она закинула руки ему за шею: «Мы не увидимся больше. Так не будем ничего бояться… Один раз… возьмем наше счастье…» - и прильнула горячими губами к его рту.
В официальном рапорте полковому командиру штабс-капитан Диц сообщал подробности дуэли между поручиком Николаевым и подпоручиком Ромашовым. Когда по команде противники пошли друг другу навстречу, поручик Николаев произведенным выстрелом ранил подпоручика в правую верхнюю часть живота, и тот через семь минут скончался от внутреннего кровоизлияния. К рапорту прилагались показания младшего врача г. Знойко.